Заявка на сценарий художественного фильма «ОТЕЦ АРСЕНИЙ»
(по мотивам одноименной документальной книги коллективного безымянного автора).
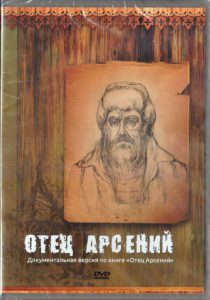 Слово это — в художественном его воплощении — в нашем кино еще не сказано, сказать его трудно, кажется даже почти невозможно, но попробуем…
Слово это — в художественном его воплощении — в нашем кино еще не сказано, сказать его трудно, кажется даже почти невозможно, но попробуем…
Жернова эпохи беспощадно смяли миллионы судеб не слепо и не зря, а чтобы в страданиях явлена была людям спасительная правда их земного существования, зыбкость всех самоопределений перед лицом смерти, трагическая болезненность социальных обольщений и утопий, печальная, шизоидная смехотворность «сильного характера», «человека, звучащего гордо»…
Нет, не зря было попущено для России XX века это грандиозное
историческое экспериментирование – «безумство храбрых». Она, Россия, со всеми ее народами, окончательно и явно, необходимо и безусловно доказала от противного, выстрадала от «беспощадного и классового» — общечеловечность, не как понятие даже, а как сущность нашего внутреннего единства, воплощенного в образе
Сына Человеческого, в образе спасительно всепоглощающей жертвенной любви к роду людскому и к каждому отдельному существу в нем. Это и есть, как сказано в Писании: «Истина, Путь и Жизнь». Другого не дано.
На самом деле бессмысленно рассказывать историю отца Арсения с общепринятых сегодня представлений, ибо ее неотъемлемая часть – молитва и чудо. Для верующих людей в качестве нравственного императива, по словам Сергея Сергеевича Аверинцева, вменяется «жить по законам чуда», и поэтому оно не может не быть здесь внутренней частью драматургии. Было бы величайшей пошлостью изображать христианского святого как просто «хорошего человека». Однако, чтобы не посягать на свободу зрителей принимать ту или иную картину мира, с самого начала мы должны внести в повествование субъективный момент. Поэтому нам нужен образ Автора. Нам кажется, лучше, сильнее, органичнее, если мучительную, жестокую реальность ЛОНа, Лагеря Особого Назначения, где будет происходить основное действие, воссоздавать в своем воображении станет женщина.
Исходная ситуация такая: в руки нашего Автора попали листки воспоминаний людей, знавших отца Арсения, в основном, людей верующих, его паствы, и, наложившись на ее собственное воспоминание о «странном старичке» и на ее профессию сценаристки, на ее веру и ее неверие, они как бы на наших глазах порождают этот фильм. Не думаем, что нам понадобится «жизнь Автора», ее проблемы, нет – только время от времени ее лицо, обращенное к зрителям, письменный стол, заваленный рукописями, пейзаж современного города за окном, мелькнувшие на секунду ее дети, подбежавшие к ней лишь для того, чтобы поцеловать и пожелать спокойной ночи, и голос, рассказывающий, размышляющий, задающий себе и зрителям вопросы…
«Лагерь Особого Назначения» — читает она листки из сшитых школьных тетрадок. Вслух, для нас. — Хлопали двери бараков. Заключенные выбегали на улицу для проверки, строиться. Раздавались крики, ругань, кого-то били…»
Отец Арсений, в прошлом Стрельцов Петр Андреевич, искусствовед, специалист по древнерусскому искусству, а ныне «зек» – заключенный №18376 – попал в этот лагерь в августе сорок второго, ему было тридцать девять лет. И за первые полгода он ясно, как и все живущие здесь, понял, что отсюда не выйти никогда.
В бараке помещалось 350 заключенных, большинство политических, но власть была у уголовников.
Движение от человеческого стада, где правит самый наглый и сильный – к человеческому сообществу, конечно, по-прежнему живущему в страшных, нечеловеческих условиях, и пораженному силой зла, но, тем не менее, уже познавшему над собой власть совести – вот тот сюжет, на котором мы думаем построить весь сценарий. От незаметного, теряющегося в серой злобной толпе «старичка», «попика», как называли его в насмешку зеки («что, попик, на попа тебя или на попу?»… «и у попов не без клопов?»… «кто попа, кто попадью, кто попову дочку»… – изощрялись) – до легендарной фигуры, обладающей таинственной силой воздействия на людей и обстоятельства – движение образа главного героя.
В череде столкновений, неожиданных поступков, и подлых, и добродетельных, исповедей и откровений пройдут, может быть, полтора десятка разных лиц: и надзиратели, и конвоиры, и заключенные…
Избранная форма «размышлений над воспоминаниями» позволяет строить свободное повествование, выбирая для рассказа самое интересное: свидетельства…
«Мое знакомство с о. Арсением произошло из-за валяных сапог…»
«…На вечерней проверке одного человека не хватало. Люди мерзли, надзиратели злились, начали третий пересчет…»
«…Студента проиграли Ивану Карему, не самого пока – одежду…»
И вторая линия сюжета – проживание этого материла Автором.
«…Где она, Божья Матерь, — думала я, — где была она, когда я верила, что рождена для счастья, как птица для полета, когда, стоя в пионерском строю, я слушала свое радостное сердце и благодарила кого-то, что зло мира – там, где-то там, за чертой, в далеком и страшном мире капиталистических джунглей, негритянских гетто и освенцимов… Где она была, Божья Матерь, когда радость моя с годами исчезла, и я однажды обнаружила себя в плену собственной тоски, одиночества, страха смерти, страха за своих близких?..»
И вдруг меня поразила мысль: «На самом деле я в лагере. Здесь, сейчас! В своем так называемом благополучии — с этим вечным страхом смерти, болезней, безденежья, с этой жаждой любви к себе и неумением ее давать другим… В моем мире нет места Божьй Матери, потому что в нем нет места Богу. Я не верю… Но, может быть, я отбыла свой срок? В своем личном воображаемом ГУЛАГе повседневного ужаса? Может быть, этот старичок освободит и меня? И, может быть, оттого он и становится мне ближе, и оттого я могу принять его, что и у него самого были эти горькие минуты отчаяния и сомнений?… »
И она снова стала читать его письмо.
«… Тоска, необычная, щемящая тоска подступила и сжала мне сердце и душу. Состояние полной безнадежности, уныния и чувства скорби пронзило и смяло меня. Отчаянная душевная боль вырвала из моего горла болезненный стон.
— Господи! Зачем ты допустил это?
Пронзительный и долгий плач вдруг внезапно возник и пронесся над полем. Ноющий стон словно покрывал все бескрайнее поле кладбища и внезапно смолк, чтобы через несколько мгновений возникнуть с прежней силой, сковывая душу невыносимой, беспредельной скорбью. Окружающее потемнело, поблекло, я почувствовал себя раздавленным, уничтоженным и, последним, казалось, движением, осеняя себя крестным знаменьем, прошептал:
— Господи! Господи! Яви милость свою!
И вдруг ветер, затаившийся в перелеске и траве, словно вырвался на волю, заколыхал травы, закачал деревья, мгновенно всё стихло, пробудилось и двинулось. Ноющий и заунывный стон исчез, и неожиданно высоко в небе зазвучало пение птицы, дрожащая и парящая дымка воздуха рассеялась, растворилась в пространстве.
Состояние растерянности, гнетущей тоски и безнадежности прошло, я распрямился… Стонущий плач, проносившийся над полем, оказался вибрирующим звуком циркулярной пилы, работавшей на далекой лагерной лесопилке. Зато жаворонок радостно всё поднимался в вышину, песня его то затихала, то отчетливо звенела в небе, и я с очевидностью внутренним своим взором вдруг увидел, что охватившее меня состояние безысходной тоски было вражеским наваждением, слабостью моей, маловерием.
По-прежнему передо мной было скорбное поле смерти, ямы, наполненные водой, обломки человеческих костей, жестяные деревянные бирки… По-прежнему лежали в земле десятки тысяч погибших заключенных, многие из которых навсегда вошли в мое сердце, всё так же душа моя была полна скорби. Но гнетущее чувство безнадежной тоски – ушло. Для чего всё это было, Господи? Для чего мучились и погибали люди: верующие и неверующие, праведники и страшнейшие преступники? Я по-прежнему не знал это. Но теперь я знал, что могу жить, не зная. Просто доверяя Тебе, Твоей великой тайне…»
И последнее – пусть это и станет финалом:
«…Этап, видимо, был тяжелый… Вошли не люди, а тени. На ногах не стоят, во многих жизнь еле-еле теплится. На улице мороз, ветер, в дороге два дня не выдавали питания, не спали трое суток. Чем живы, понять нельзя. Пригнали перед проверкой, когда хлеб выдан, обед из баланды съеден, начальство собиралось уходить, хотя понимало, что будет в этот день в лагере большая смертность, так что придется потом по дням расписывать умерших. «Не барынья они, чтобы за ними ухаживать, а враги народа… На свободные лежаки разбирайтесь». А свободные лежаки от печей далеко. Холодно там, не согреешься за ночь. Сторожили барака в это время спать устраивались, кто уже лежал, кто в карты доигрывал. Осмотрели этапных, увидели, что взять с этих «обносков человеческих» нечего, и продолжили заниматься своими делами.
Тогда о. Арсений подошел к барачной «головке» из уголовников, их слово в бараке закон для шпаны и политических, и сказал: «Надо этапным помочь, а то часть народа умрет к утру». – «Да ну их, пусть дохнут. Сами скоро дойдем, от своей пайки жрать не дам. Понял, папаша!»
Отец Арсений перекрестился и спокойно, спокойно сказал: «Этапных положим на лежаки у печей, сами на холодные переляжем, что у кого из еды есть, на стол кладите, а воду в печах нагреем, еще не остыли. Давайте быстрее».
И те вдруг молча и послушно поднялись и пошли по бараку народ перекладывать, что у них из еды было, первые достали и положили на стол. Остальные барачные жители тоже, конечно, класть стали, что у них было из еды. Кто-то из шпаны пытался утаить хлеб, им наподдали, что надолго запомнили.
Еды по крохам собрали много, накормить 25 человек было можно. Воду в кружках нагрели в печах. Собранное разделили, раздали.
Один из матерых уголовников увидел, что юнец из «этапных» поднял ко рту кружку с водой и тут же выронил ее, настолько ослабел. Уголовник матюгнулся по привычке, взял у него кружку, налил снова воды и, прижав к себе юнца, стал, как маленького, поить из кружки, осторожно поднося ее к его рту.
Темный барак постепенно наполнялся таинственным светом, исходящим от лиц людей…»
